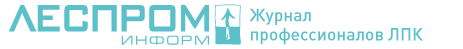Лесопродукционная полоса как перспективный метод ведения лесного хозяйства
Принято считать, что будущее лесного хозяйства России в реализации концепции интенсивного лесоводства. Определение этого подхода довольно размытое, но обычно считается, что интенсивное лесоводство должно обеспечивать устойчивый максимальный экономический эффект за счет интенсивного лесовосстановления (использования современных способов посадки саженцев с благоприятными наследственными свойствами); эффективного ухода (поддержания насаждений в состоянии, обеспечивающем максимальный прирост и использование древесины на период оборота рубки); минимизации потерь путем проведения противопожарных мероприятий и борьбы с вредителями, внедрения элементов биозащиты. При этом подход должен быть неистощительным, а продуктивность экосистемы – без потерь.
Сторонники этого подхода часто постулируют необходимость перехода от «собирания дикого леса» к лесопользованию в стиле «лесного огорода», где благодаря своевременному уходу будут хорошие урожаи товарной древесины.
Курс на такой тип хозяйствования взят более 10 лет назад, хотя многие его элементы были известны в нашей стране задолго до этого. Несмотря на определенные успехи (Псковский модельный лес), его внедрение долго шло со скрипом и скорее по инициативе сверху. Тогда как в тех странах, где была сформулирована концепция интенсивного лесопользования, она принималась ввиду очевидной неизбежности исчерпания ресурса в ближайшее время.
В российских научных кругах модель интенсивного лесного хозяйства пользовалась симпатией отчасти как средство сохранения нетронутых остатков леса и часто продвигалась иностранными экологическими организациями. Пусть лесозаготовитель обрабатывает плантации, а остальная тайга останется целой – такова была неформальная идея. Внимание властей к ней мотивировалось возрастанием логистических трудностей по вывозу леса из еще не исчерпанных локаций и потенциальным их исчерпанием. Однако наибольшей проблемой для реализации мероприятий интенсивного лесоводства был поиск по-настоящему заинтересованного в этом субъекта «на земле».
Организация интенсивного лесопользования требует длительного ожидания возврата инвестиций, соизмеримого с периодом роста древостоя. Плантационное выращивание деревьев в принципе долговременная инвестиция – оно начинает приносить какую-то прибыль (сбор побочного продукта – пыльцы, сока, почек) лишь через 10–15 лет. Незаинтересованность в работе на столь далекое будущее может приводить к халатному отношению к лесовосстановлению в целом и отказу от использования методов улучшения условий произрастания. Например, если после высадки саженцев не проводится прореживание прижившихся, неизбежно снижается качество леса.
Интенсивное лесоводство в классическом представлении перспективно, когда речь идет об энергетических плантациях, выращивании материала для ЦБК близ пункта потребления, плантационном выращивании ценных пород относительно недалеко от логистических артерий. Такой подход правильно будет описать как получение максимума товарной массы за счет возрастания затрат. Это и есть идея «огорода». Человек рушит природные механизмы регулировки экосистемы, чтобы выиграть в приросте биомассы. За это приходится платить дополнительными затратами и усилиями. На Западе для этого не стесняются использовать даже удобрения.
Но, кроме ближних к потребителю зон, есть удаленные районы, где леса тоже нуждаются в уходе. Сколько понадобиться людей и сил для превращения всей тайги в огород? Ведь недаром интенсивное лесоводство, как его у нас понимают, зародилось в относительно компактных странах. А еще лес нужен не только для дров и бумаги. Это строительный материал. Древесина Русского Севера славится высоким качеством – в суровых условиях дерево растет медленно, годовые слои становятся тоньше, усиливается стойкость к гнили и грибкам, повышаются физико-механические свойства. А достижение максимального прироста древостоя означает снижение товарного качества древесины. Это справедливо и для лесных дикоросов – если сравнивать травы, выросшие в диких условиях, и их окультуренные плантационные аналоги, качество последних как лекарственного сырья обычно ниже.
Стоит рассмотреть и альтернативные подходы к реализации этого метода, который не заменит интенсивные лесные плантации (они действительно должны быть созданы для снижения антропогенной нагрузки на лесной пояс страны), но позволит использовать минусы и ограничения нашей территории (меньшую продуктивность экосистем как результат более сурового климата и бедных почв, логистические проблемы) как плюсы или хотя бы превратить их в нейтральный фактор. Суть подхода должна быть сформулирована так: получение максимально качественного товара при минимизации усилий. Причем меньший объем продукта может быть восполнен большей площадью сбора.
Для этого необходимо развивать природоподобные технологии лесовосстановления. Они нужны для компенсации минусов стандартного плантационного подхода и сокращения затрат на уход. К таким технологиям относятся и смешанная высадка пород, и высадка деревьев биогруппами, интродукция не отдельных пород, а целых экологических ниш – не только саженцев, но и их растительной свиты, в том числе дикоросов, выполняющих как биозащитную, симбиотическую, так и почвоулучшающую функции. Развитие таких методов позволит переложить часть необходимого ухода на механизмы естественной регуляции экосистемы и тем самым повысить устойчивость насаждений к изменению климата, болезням и возгораниям. За эталон лесовосстановления необходимо брать то состояние леса, которое фиксировалось в выбранной местности до начала значимого антропогенного воздействия, насколько это позволяют текущие климатические условия.
Однако все упирается в проблему, кто будет ухаживать за лесом и за чей счет? Без участия человека не обойтись при любом подходе. И эта проблема не решается должным образом ужесточением контроля или норм. Все, что можно оптимизировать, будет оптимизировано. Нужен другой путь. Необходимо найти способ получать выгоду не только от рубки леса, но и от его роста и восстановления. Тогда у лесопользователя появиться стимул выполнять все требуемые для лесовосстановления действия.
Для этого стоит обратиться к недревесным продуктам леса. В дальневосточной тайге этот вопрос был детально изучен профессором Анатолием Измоденовым (1930–2016). На базе его многолетних исследований и под его руководством был организован массовый сбор дикоросов и других продуктов леса, затем их переработка и экспорт за рубеж. В тайге добывались и лекарственные растения, съедобные папоротники и хвощи, чага, ягоды, лесные овощи, соки, пыльца, шишки, хвоя. К сожалению, эта практика как организованное явление, приносящее пользу лесному хозяйству, не смогла пережить кризис 1990-х годов…
Еще один интересный подход – создание лесопродуктовых полос. Это лесозащитные полосы или плантации, в состав которых целенаправленно включены растения, дающие полезные человеку плоды.
Комбинирование этих подходов позволяет подойти к интенсивному плантационному лесоводству повышенной продуктивности с коротким периодом, предшествующим получению прибыли, за счет посадки и сбора недревесных лесных продуктов.
К примеру, сбор черемши в восстанавливающемся лесу, возможен на третий-четвертый год после засева лесной плантации, то есть сроки начала окупаемости сдвигаются ближе к приемлемым. Это справедливо и для многих других дикоросов, к сбору которых обычно приступают через 3–5 лет, но лишь при отработанной технологии высадки и понимании условий роста растения.
Представим себе березовую рощу, выросшую на гари. Когда-нибудь она даст сырье для хорошей фанеры, и, чем правильнее и разумнее ухаживать за деревьями, тем больше. Но ждать этого долго. В возрасте рощи 10– 15 лет нужно провести прореживание, и срубленное может обеспечить лечебные почки и листья. В 20–25 лет можно начинать собирать березовый сок для получения полезного сиропа к чаю. Почему бы не добавить к этим мероприятиям сбор однажды высаженных дикоросов?
Организатору подобной плантации уже будет выгодно проводить почвоулучшающие мероприятия, следить за противопожарной безопасностью и за мелиоративной сетью, адаптировать современные методики лесовосстановления.
Почему добыча дикоросов актуальна?
Глобальный продовольственный кризис и его неизбежное развитие в ближайшие 10 лет, а также растущий интерес людей к экопродукции увеличивают потенциальный спрос на съедобные дикоросы. Выращенные в естественных условиях растения характеризуются более высоким содержанием полезных веществ и по цене превосходить выращенные на искусственной плантации введенные в культуру. Низкую урожайность лесных трав (в сравнении с полевой плантацией) можно компенсировать большей площадью леса, которая по мере роста деревьев не приносит иной пользы. Возможно использование редколесья, заболоченного леса, неудобий.
Наконец, Китай и Индия, практикующие традиционные методы лечения, являются огромным рынком сбыта лекарственных трав. Европейские фармакологические компании тоже выпускают немало лекарственных препаратов на основе травяных экстрактов.
Недревесные ресурсы леса и продукция АПК и фермерских хозяйств относятся к разным нишам. Обычное сельское хозяйство становится прибыльным за счет максимизации отношения массы урожая к площади посева за счет использования дорогой техники, качественных удобрений, селекционных семян на плодородной земле. Эксплуатация дикоросов, как и прочего недревесного продукта, происходит по противоположному принципу – сбор высококачественной, экологически чистой продукции при минимизации затрат на ГСМ и дорогую специализированную технику, сокращении энергетических затрат на килограмм продукции. Отсутствуют затраты на защиту от вредителей и сорняков. Однако велика роль ручного труда и необходима детальная проработка способов заселения посадок дикоросами. Далеко не на всей площади лесного массива реализуются условия, при которых выбранный вид будет нетребователен к уходу, с другой стороны, видов полезных дикоросов много. Однако все эти проблемы могут быть решены в результате исследований в соответствующих областях.
Проект лесопродуктовой полосы аналогичен концепции лесосада и пермакультурного сада, отличается от нее прежде всего выбором дикоросов вместо культурных растений. В обществе большой интерес к подобным концепциям, но желающих заняться такими проектами отпугивает неадаптированность применяемых технологий к российским регионам. Отработка лесопродуктовой полосы как экспериментального, пилотного, проекта позволила бы предоставить заинтересованным ответы на эти вопросы, и он бы не остался единственным осуществленным.
Лесовосстановление и лесозаготовку при таком подходе могут осуществлять разные работники. Ведь для этого нужны разные компетенции, техника и подготовка.
Возможно и использование отдельных элементов подхода.
Часть вырубок несколько лет можно задействовать для выращивания продукта массового спроса – иван-чая, крапивы, ромашки или другого. Такое решение служит этапом биомелиорации – повышением плодородия почвы за счет воздействия на нее растений. Формирование подобной мозаичной структуры является более естественной с точки зрения экосистемы леса до начала антропогенного воздействия.
Возможна легализация добычи лесного продукта в обмен на выполнение элементов ухода. Например, заготовитель березовых почек и листвы проводит прореживание подрастающей березовой рощи. Прочистка мелиоративной канавы, заросшей сфагнумом, дает заготовителю мох, также являющийся товаром с широкой сферой применения. Минимальный уход за молодым сосняком позволяет заготовителю официально собирать сосновую пыльцу, почки, шишки, затем живицу.
Такие работы, скорее всего, не будут интересны крупным организациям, но привлекут внимание местных жителей, фермеров, артелей сборщиков и ИП. Также они могут создать экономический смысл существования отдаленным деревням.
Сейчас часть полезных дикоросов находятся под угрозой исчезновения. Посев их на участках растущего леса, налаживание неистощительного сбора по определенным стандартам спасут их от вымирания и принесут экономический эффект. Некоторые другие полезные растения могут быть успешно интродуцированы на севере страны вследствие потепления, при правильном использовании местных условий – длительности светового дня или южных склонов холмов и т. д.
Принято считать, что интенсивное лесоводство должно быть неистощительным, то есть не приводить к снижению продуктивности. Однако известны и способы повышения потенциальной продуктивности древостоя. Возможно, стоит начать говорить о преумножающем лесоводстве. Пусть прирост будет небольшим, но постепенно можно обеспечить наших потомков лесами.
Известно положительное влияние внесения древесного угля для некоторых типов почв. Древесный уголь можно получать из порубочных остатков и кореньев в мобильной углежоговой печи. Причем высокое качество угля для этих целей не требуется.
Эффективна и фитомелиорация, например, посадка люпина ускоряет развитие сосны, дуба, кедра и других пород. На юге использование этой культуры затрудненно ее высокой инвазивностью, но, по некоторым данным, в северных районах Архангельской области люпин исчезает из травостоя после смыкания крон.
Канадские технологии почвоулучшения за счет внесения измельченных тонких (менее 5 см) веток применяются в России редко. Обычно остатки и выкорчеванные корни складывают в кучи или равномерно разбрасывают по участку рубки. Между тем известно, что корни растений часто содержат вещества, замедляющие рост конкурентов, – они медленно выветриваются, но частично вновь попадают в почву.
В Республике Коми, Архангельской области и других регионах СЗФО внедряется технология посадок на микроповышениях. Эта альтернатива плугованию почвы и корчеванию позволяет улучшить водовоздушный и тепловой режим холодных и сырых почв.
Однако необходима проверка любых перспективных технологий и адаптация для конкретных условий, в противном случае эффект может оказаться и негативным. При слепом переносе такое бывало не раз. Так, внедрение немецкого плуга с глубоким оборотом пласта в XIX веке разорило многих российских помещиков. Чуть позже нечто подобное случилось при освоении целины. Правильное проведение мероприятий зависит от заинтересованности собственника и арендатора в лесовосстановлении. К тому же упомянутые технологии повышения продуктивности древостоя оказывают положительное влияние и на дикоросы.
Очевидно, что предлагаемый подход не противоречит концепции интенсивного лесоводства. Он лишь предлагает другие методы осуществления этой системы, сдвигает акценты для ее применения в российских условиях и отчасти является ее развитием.
- Классический подход интенсивного хозяйства (максимум продукта за счет бóльших вложений и постоянного ухода при возможном снижении его качества) и природоподобное интенсивное хозяйство (выше качество продукта с высокой маржей при минимизации затрат на уход) различаются нишами применения.
- Использование недревесных ресурсов леса, их лекарственного применения ускоряет получение дохода от лесовосстановления. Эффективно разделение функций занимающихся лесозаготовкой и лесовосстановлением.
- Продуктивность биоценозов активно повышается за счет их возвращения к исходным типам, сложившимся до значимого антропогенного воздействия, а не поддержания текущего уровня.
- Удаленность мест произрастания дикоросов от источников загрязнения, климатические условия, замедляющие набор биомассы древостоя, могут служить позитивными факторами, повышающими качество продукта.
Сейчас рассматривается возможность закладки экспериментальной лесопродукционной полосы в Нюхченском лесничестве Пинежского района Архангельской области – в качестве пилотного проекта. Именно там будут опробованы вышеперечисленные подходы и получен опыт их реализации.
Текст Сергей Капустин,
доцент САФУ им. М. В. Ломоносова